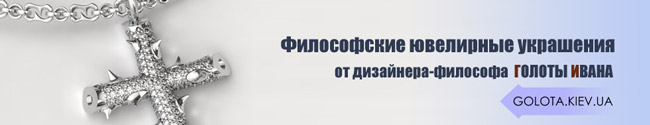(текст выступления в Санкт-Петербурге на конференции "Образы, символы, стереотипы культуры", 1999 год)
Уважаемые дамы и господа! Позвольте начать своё выступление с вопроса,
который, однако, может Вам показаться странным, незначительным, наивным
или просто неуместным. Итак: чего мы по настоящему боимся в своей обыденной
жизни? Одна ли смерть пугает нас? Только ли ложь, вина, боль и бессмысленность
нам действительно страшны? И в таком случае, не слишком ли возвышенны
те сферы, где свил своё логово человеческий страх? Не льстим ли мы себе
на этот счёт?
Такой вопрос я задаю себе всё чаще по той причине, что мой собственный
страх имеет, кажется, довольно необычный предмет: я боюсь науки.
Традиционно считается, что научно дисциплинированное мышление предполагает
как ряд предварительных определений (и в первую очередь определение предмета
исследования), так и внятно сформулированную идею, которая должна быть
сразу заявлена и далее последовательно раскрыта и проиллюстрирована. Однако
я буду исходить из уже неоднократно высказывавшейся, в частности Гуссерлем,
идеи о том, что можно выделить два этапа постановки того, что мы называем
проблемой: дотеоретический и собственно теоретический. Наша эпоха со всей
очевидностью продемонстрировала (а только эпоха имеет привилегию что-либо
демонстрировать), что чрезмерная концентрированность западноевропейской
науки на собственно теоретической проблематике в конце концов поставила
под вопрос жизненный смысл (и соответственно - право на существование)
науки как таковой [1; 52 и далее]. Это приводит к мысли о необходимости
обращения к "жизненно-смысловому основанию" научно-теоретических
проблем [см. 2]. В частности необходим пересмотр методологии формирования
жизненных трудностей в собственно теоретическую проблему. Поэтому чрезвычайно
важен именно дотеоретический этап постановки проблемы. Этот этап, возможно,
правильнее было бы назвать "выговариванием трудности", или "доаналитическим
высказыванием". Имеется ввиду целостное авторское воспроизведение
некоего элемента мира, в соприкосновении с которым некто оказывается и
к которому этот некто должен как-то отнестись.
Иначе говоря, если я высказываю некую проблему, то это должна быть моя
проблема. Исходя из такой установки моё нынешнее выступление было бы некорректным,
если бы я взялся решать проблему, которая не моя. Не моя - значит чужая?
Грубо говоря - вычитанная (то есть за меня кто-то этот мир уже оформил
в текст, и я, как корректор, лишь вычитываю его), а выражаясь помягче
- "теоретическим образом взятая как предмет научного анализа".
Если проблема действительно своя, это значит, что она произрастает изнутри
моего жизненного мира - того мира повседневных очевидностей и страхов,
по отношению к которым вторичны различения иллюзии и реальности, теории
и практики, бытия и сознания. Как бы неловко и упрощённо ни была поставлена
"моя проблема моего жизненного мира", её главное преимущество
в том, что проблема эта - живая (пока она растёт и дышит, её можно научить
"разговаривать" - высказывать саму культуру).
В данном случае моя проблема - это мой страх перед наукой. Конечно же,
за этим стоит прояснение самой возможности отношения к науке, в частности,
прояснение смысла страха как полноценной формы отношения к науке. И именно
на том фоне, что в современной европейской культуре (насколько о таковой
вообще можно говорить) распространено мнение о принятии науки (и техники)
как единственном должном отношении к ней (собственно, это есть отсутствие
какого-либо отношения, претензия на полную непосредственность).
Хотя в научно-гуманитарной сфере общественной жизни Европы идут споры
о роли и значении науки в истории человеческой культуры, ставятся вопросы
касательно целей и ценностей современного научного производства, всё же
при этом меня не покидает ощущение какой-то вторичности подымаемых проблем.
И причиной тому, на мой взгляд, является тот факт, что сама проблематизация
науки осуществляется если не научным, то уж во всяком случае наукообразным
образом. Так что такое научное мышление только продолжает скрытым образом
утверждать науку. Проблематизируя науку, исследователи уже находятся в
позиции научно-теоретической отстранённости относительно науки. Может
ли тогда речь идти о подлинности проблематизации?
Так и со мной: разве не была бы абсурдной попытка научным образом разбираться
в собственном страхе науки? Мой страх - это моё непосредственное отношение
к науке, и потому - рискну утверждать - отношение подлинное. Поэтому заранее
прошу извинить за то, что говорить я стану как бы о себе: о своей проблеме,
о своём страхе… В отношении науки страх вполне уместен, выполняя функцию
отсылания к изначальности. А чтобы эта изначальность оказалась живым смыслом,
порождающим понимание, следует держаться принятой нами настроенности.
Такая установка, возможно, и не вписывается в рамки устоявшихся культурологических
подходов, но даже и в этом случае культурология, как дисциплина в процессе
становления, получит ещё один импульс к самоопределению, к прояснению
собственных границ.
Страх - вещь не просто очень важная, но и предельно информативная. Даже
если мы боимся какой-то ерунды, то это может быть ерундой для кого угодно,
только не для нас. Мы боимся того, что для нас здесь и сейчас самое главное.
Весь мир схлопывается в один тесный туннель, ведущий к ненавистному нечто,
перед которым перехватывает дыхание и холодеет под сердцем. Если страх
неотступно нарастает, и превращается в ужас, то предмет этого ужаса воистину
оказывается воплощением самого Ничто. То нечто, которого мы боялись, ещё
имело какие-то конкретные очертания. Но в ужасе это нечто предстаёт абсолютно
безобразным ничто, которое в каждом моменте нашего к нему внимания разоблачается
в Ничто. И настоящая жуть начинается, когда в затягивающей бездне Ничто
мы узнаём себя…
Так что: со страхом лучше разбираться как можно быстрее - пока есть место
для понимания? Или же место для понимания есть всегда, а происходит понимание
или нет - это зависит от нашего присутствия? В таком случае стоит как
раз не спешить, а попытаться прочувствовать, пережить и помыслить весь
наш страх, доведя его через ужас вплоть до самой жути, где бы приоткрылось
само Ничто...
Однако, вариант такой "экзистенциальной медитации" не единственен.
Понимание возможно не только благодаря чистоте присутствия, но и через
мышление, а для нас, во многом европейцев, - в первую очередь через мышление;
но мышление, свободное от наукообразия.
Итак, возможно ли, в самом деле, разобраться со страхом науки при условии,
что это "разбирательство" не будет иметь наукообразный характер?
Я задаю себе этот вопрос, и сразу замечаю: а ведь само это сомнение в
возможности ненаучного понимания выдаёт первую и, возможно, решительную
причину моего страха: наука предстаёт передо мной как тотальность - тотальность,
претендующая на статус Абсолюта. Я вижу науку как такое уникальное Единое,
которое не оставляет места Иному. При таком агрессивном противостоянии
невольно учуешь запах Ничто… Как тут не зародиться страху?!
И дело тут не совсем во мне. Даже если закрыть глаза на мир, а только
взять в руки энциклопедию или философский словарь - будь он европейского,
американского или нашего, постсоветского, происхождения - то при внимательном
взгляде оказывается, что ни религия, философия, искусство, с одной стороны,
ни дух, экзистенция, вера, свобода, с другой, не имеют того безусловного
почёта и уважения, которое имеет наука. Та "ведущая роль науки внутри
всей человеческой экзистенции", о которой как о возможности говорил
семь десятилетий назад Мартин Хайдеггер [3; 17], на пороге третьего тысячелетия
преодолела все ограничения и стала вполне действительной. Конечно, при
этом я не чувствую себя обязанным делать из данной констатации те же выводы,
что делал Хайдеггер, Петров или Сидоров. Просто мне становится страшно…
Иногда, когда ребёнок боится темноты, ему объясняют, что "вот другие
мальчики тоже боялись темноты, но потом перестали", или что-то в
этом роде. А боялись ли "другие дяди" науку? И приходится ответить:
да, причём "давно и основательно". И чтобы это показать, лучше
говорить не собственно о науке, а о знании вообще. В данном случае это
будет не подмена понятия (впрочем, в случае с наукой - отсутствующего),
а сознательное устранение предрассудка в словоупотреблении (далее ещё
будет идти речь о стереотипизации науки).
Вообще говоря, издревле люди испытывали страх в двух весьма различных
отношениях: в отношении Божества и в отношении знания. Страх перед Господом,
как предохранитель в телевизоре, - вещь простая, но необходимая. Вера
как начало сближающее и даже понимающее, не позволяло страху перерастать
в бесконтрольный ужас. Так что страх, в конечном счете, выступал компонентом
общения с Божественным началом, и парализующий потенциал такого страха
всё меньше давал о себе знать. Что же касается знания, то его "приручение"
никогда не получалось так просто. В тех древнейших книгах, которые у многих
народов почитаются священными, мы находим попытки ответить на вопрос:
человек ли использует знание, или само знание использует человека? Страх
и трепет, ненависть и благоволение смешались в отношении наших древних
предков к знанию. И поэтому не удивительно, что в конечном счёте знанию
приписывалось божественное происхождение, а боги зачастую назывались всеведущими.
Однако неоднозначность отношения к знанию задавалась тем путём, которым
знание попадало к человеку. Боги всезнающи, и пока они с нами, нам самим
знание не нужно; но если мы ощущаем себя незнающими и осмеливаемся познавать,
то не значит ли это, что боги оставили нас? А если знание есть благо,
но в руках человеческих обращается во зло и грех, то человек виновен в
том пути, благодаря которому знание оказалось у человека: ибо боги не
хотят обращения блага во зло.
Чем больше человек узнавал, тем больше та свобода, которую давало знание,
пугало человека. Этот процесс параллельного нарастания свободы и страха
осуществлялся весьма медленно: по крайней мере, настолько, чтобы в рамках
одного поколения не ощущались перемены в этом отношении. Но все же преобразование
страха перед миром в страх перед знанием не прекращалось. Те мизерные
доли свободы, которые человеку время от времени удавалось вырвать у жизни
благодаря познанию, постепенно складывались в единое пугающе-притягивающее
нечто, которое позже - в ХХ веке - назовут "невыносимым бременем
свободы"…
Но это будет намного позже. А пока можно вспомнить и времена античности,
когда Гераклит Эфесский провозглашает свое знаменитое "Многознание
уму не научает": и это на фоне другого - дельфийского - кредо "Познай
самого себя…" Такая поразительная борьба жизненных идеологий по вопросу
о ценности знания приобретает в древнегреческой культуре форму агона,
некой вполне самостоятельной состязательности. Агональная культура греков
успешно ассимилировала данную проблему и сублимировала страх знания в
благоговение перед космосом. Актуально космос для греков был не намного
более познан, чем хаос, страх перед беспредельностью которого конституировал
подсознание древнегреческой культуры. Но в этом и состояла живительная
сила последней, что потенциальная познаваемость космоса была предположена,
иначе говоря - задана как некое универсальное основание, само не требующее
никаких иных. "В своем материальном благополучии милетцы видели свидетельство
того, что они способны многое свершить, не полагаясь на помощь богов,
и постепенно наиболее смелые умы пришли к дерзкой мысли о том, что Вселенная
в целом познаваема, доступна человеческому разуму" [см. 4].
Однако на фоне благоговения перед познаваемым космосом в Древней Греции
происходила и первая исторически известная "деконструкция знания".
Я имею в виду софистов и их вполне неожиданное перенесение источника "меры
всех вещей" в микрокосмос человека. Отнюдь не страхом был влеком
Протагор, утверждая, что истин по одному и тому же вопросу всегда не меньше
двух. Напротив, упоенная игра противоположностями довела бесстрашие перед
знанием до уровня "гносеологического нахальства", на что и не
преминул указать Сократ.
Сам, будучи скромным вполне умышленно, Сократ славился своим бесстрашием:
как на войне, так и в "поисках истины". Кажется даже, что эти
поиски походили на военные атаки, основной стратегией которым служило
постепенное введение собеседника в состояние паники. Но на многое ли хватало
отваги у Сократа? Её было достаточно, чтобы спокойно умереть, но недостаточно
для более или менее однозначных определений и умозаключений. Кажется,
что этот "мученик от науки" предпочитал держаться от самой науки
на почтительном расстоянии. Так что если Сократ и не боялся науки, то
уж, по крайней мере, остерегался её.
Но не личность Сократа нас сейчас интересует. О нём зашла речь лишь потому,
что образ этого мудреца для многих (ибо мир слишком зависит от этих "многих",
чтобы не обращать на них внимание; можно было бы даже следующим образом
пошутить: наука - это изобретение Некоторых для того, чтобы Многие оставили
их в покое) является воплощением, если не самой философии, то уж по крайней
мере - древнегреческой культуры. Я же сказал бы, что Сократ скорее попытался
облачить в новые одеяния разоблаченный Гераклитом Логос.
Если же говорить о культуре Древней Греции в целом, то причудливое сплетение
познавательного оптимизма и разъединяющего скепсиса, радости перед космической
гармонией и панического ужаса перед порождающим хаосом, дает основание
думать, что человек того времени отнюдь не полагал своё существование
(точнее, свою экзистенцию) в достоверность знания, или даже в его истинность.
А ведь, кажется, именно это со временем стала требовать западноевропейская
наука (правда, эксплицитно это происходит лишь в тех редких случаях, когда
ей не изменяет мировоззренческая последовательность).
Однако до европейской науки было ещё тертулиановское "верую, ибо
абсурдно". Это, казалось бы, прямой антирационализм, но свою роль
в культуре он сыграл, и проблему истины своеобразным образом попытался
решить. Боялся ли Тертулиан знания, или же он просто отвергал его? Но
с другой стороны, не всякое ли отвержение знания подразумевает страх как
своё начало? Особенно трудно разобраться с этим в контексте проблемы веры.
Ведь если отвержение знания осуществляется "принципиально",
то есть исходя из определённых установленых основоположений (догматов),
то тем самым просто осуществляется отвержение одного знания в пользу другого,
"истинного". Если дело представляется так, что знание отвергается
в пользу веры, то наличие того, а не иного конкретного (конфессионального)
содержания у предмета веры ("символ веры") вновь задаёт отношение
знания, только в этом случае такое отношение намного жестче зафиксировано,
причём вера и оказывается этой безусловной фиксацией конфессионально-догматического
знания [см. 5; 112-114]. Придание знанию статуса безусловного приводит
к отождествлению знания со своим предметом. Вера имеет место, когда мы
получаем доступ к самому существованию сущего, а не только "трезво"
ограничиваемся суждением о нём.
Если говорить о девятнадцатом веке, то чрезвычайно интересные и динамичные
отношения с наукой были у Фридриха Ницше. С одной стороны он усиленно
разоблачал безвопросность и однозначность научного знания, высмеивал вульгарный
"демократизм" современной науки. Но в то же время, и тут оставаясь
неисправимым парадоксалистом, Ницше в полемике по многим вопросам нередко
применяет разнообразные "аргументы от науки" - утверждения,
которые имеют такой же уровень однозначности, какой имеет научно констатируемое
здоровье относительно болезни. "Здоровый индивид", "здоровая
жизнь" были теми биологическими параметрами, которые оказывались
оружием в борьбе против "лживых выдумок метафизики".
Амбивалентность отношения к науке, которую мы находим у Ницше, свидетельствует
как раз о страхе перед наукой: она притягивает Ницше твёрдостью и окончательностью
своих выводов, но отталкивает своей бесчеловечной претензией на общепонятность.
Ницше испытывал страх перед наукой, потому что видел в ней такой способ
приспосабливаться и овладевать, который самого человека делает лишь средством
реализации научных истин.
На русской почве, конечно же, самым яростным врагом научного разума был
Лев Шестов. Исходя из библейского мифологического мировосприятия, Шестов
отчаянно отбивался от того призрака науки, который оставил после себя
к концу девятнадцатого века европейский рационализм. Этот специфический
образ даёт представление о некоем совершеном знании, трудность по отношению
к которому состоит лишь в том, чтобы выяснить, на чём основывается наша
уверенность в его совершенстве[]. Впрочем, эта трудность, отмечает Шестов,
не мешает науке притязать на роль "последней инстанции в разрешении
всех вопросов, волнующих человечество"[]. Такая ситуация, считает
Шестов, оказывается возможной благодаря тому, что в основном все интересы
человечества связаны с эмпирическим миром, а потому "истина представляется…
имеющей своё последнее основание в очевидности, делающей её убедительной
для каждого человека. Но факт всё же остаётся фактом: люди не только живут
и устраивают жизнь, но тоже умирают и готовятся к смерти. И когда их касается
дуновение смерти, они уже не стремятся к тому, чтоб ещё крепче прижатся
к единому, связывающему их с другими людьми центру, а, наоборот, напрягают
все силы, чтоб вырваться за пределы ещё вчера казавшейся им вечной периферии…
Говоря современным языком, им нужно перебраться "по ту сторону"
человеческой истины и лжи, той истины и той лжи, которая дедуцируется
из факта существования положительных наук и совершеннейшей из наук - математики"[].
Собственно, говоря о "всех вопросах, волнующих человечество",
Шестов лукавит: для всякого человека важен лишь один вопрос - вопрос о
смерти и о том смысле, который за ней стоит.
Особенно характерен страх перед наукой в двадцатом веке. Многие мыслители
и учёные-гуманитарии стали говорить про "обожествление науки"
как тенденцию последних нескольких столетий развития европейской цивилизации.
Но Первая мировая война стала поводом для переоценки значения науки, и
значительная часть столетия прошла под гул споров и дискуссий о роли научных
достижений в жизни общества и отдельной личности. Акцентировалось внимание
на принципиальной фрагментарности научного знания и детерминации науки
социокультурным контекстом. В результате до сих пор не умолкают разговоры
об ответственности учёного перед современным ему обществом и последующими
поколениями, о восстановлении традиции, о необходимости соотнесения науки
с "универсальными общечеловеческими ценностями"[]. Но не кажется
ли Вам, что большинство такого рода увещеваний касаются технических последствий
научного производства, а не самой научности научного знания? Техника грозит
уничтожением экологических (в широком смысле этого слова) условий, и,
соответственно, ставится под вопрос выживание человечества как вида, или
ещё шире - сохранение жизни вообще. Начность науки при этом не поддаётся
экзистенциальной проблематизации, а науковедение лишь пытается построить
адекватную и максимально эффективную модель научного процесса, само оставаясь
при этом в рамках научного подхода.
В этой связи хотелось бы вспомнить и Мартина Хайдеггера как фундаментального
критика европейской традиции в целом, так и новоевропейского рационализма
в частности. В отличии от многих своих предшественников, немецкий мыслитель
даёт поразительно точную феноменологию науки. Чётко схватывая такие её
составляющие как теория, метод, исследование, закон, производство и так
далее, Хайдеггер в то же время, говоря о месте науки в истории и культуре,
придаёт своему философскому анализу характер не просто критики, а настоящей
деструкции. Пафос разоблачения просто-таки переполняет статьи Хайдеггера,
где аналитическое хладнокровие хирурга соседствует со страстностью борца
за революционную сраведливость.
Однако при всём этом в основе отношения Хайдеггера к науке лежит глубоко
прочувствованный, пережитый и осмысленный страх. Но собственно ли наука
является предметом страха? Кажется, страх перед наукой имеет у Хайдеггера
направленность на иное, соотносящееся с наукой, а именно: тот факт, что
бытие является современному человеку как Ничто []. Только выстаивание
перед наукой может породить в нас отрезвляющий страх за такое положение
человечества. "Они (учёные) думают, что представлением сущего исчерпывается
вся сфера того, что может быть исследовано и поставлено под вопрос; есть
якобы только сущее и "ничто кроме"… В кругозоре научного представления,
знакомого только с сущим, то, что никоим образом не есть сущее (а именно
бытие), может выступить, напротив, только как ничто"[]. Новоевропейская
метафизика, видя мир как собрание всех вещей, тем самым дала истолкование
бытия как обобщения, отвлечённого свойства существования []. Следствием
этого явилась неспособность Нового времени понять человеческое Я иначе
как субъективность, служащую самообосновывающей и самообеспечивающей деятельности
субъекта []. Эти, казалось бы, чрезвычайно отвлечённые рассуждения приобретают
предельную наглядность, как только мы вспомним фашистскую Германию, чьё
безвременье Хайдеггер так или иначе осмыслял всю свою жизнь. Усматривая
основу новоевропейского рационализма в проекте абсолютного опредмечивания
всего сущего и глобального удостоверения этой опредмеченной данности [],
Хайдеггер, несомненно, имеет ввиду в том числе и феномен тоталитаризма
как непосредственное следствие такого проекта. То иное науки, на которое
направлен страх Хайдеггера, есть молчание Бытия, которое издавна лишено
своего собственного дома - языка. И нет задачи, по мысли Хайдеггера, более
важной, чем преодоление этой бездомности.
Впрочем, наука, конечно же, ничего не "требует", - если понимать
ее как специализированную форму познавательно-практической деятельности.
Говорить, что наука что-то "требует" - значит, с этой точки
зрения, субстанционализировать и даже мистифицировать науку. Да, вот только
в том и дело, что я не уверен, следует ли именно так понимать науку и
именно эту точку зрения принимать. Я ведь и боюсь-то науку больше всего
за то, что если она и "позволяет" себя рассматривать, то лишь
строго научно и без всяких там "домыслов" и "фантазий".
Давно и основательно наука очертила себя магическим кругом критериев рациональности,
за границей которого любые субстанционализации и мистификации не то что
эпистемологического статуса, но всякого разумного смысла лишаются. Изнутри
этого магического круга такая ситуация выглядит как соблюдение научного
принципа кумулятивной последовательности. Но стоит взглянуть снаружи,
и невольно вспомнишь голого короля: ведь "чтобы определить границы
научной рациональности, нужны критерии, которые не могут быть установлены
до того, как эти границы будут проведены" []. Однако, голые короли
иногда очень яростны…
Мой страх перед наукой - а я постепенно, с Вашего позволения, буду приоткрывать
свои карты - это, смею уверить, и Ваш страх. Только из этих соображений
я позволил себе привлекать всеобщее внимание к своей незначительной персоне
и её невнятным переживаниям одного из социокультурных стереотипов под
названием "наука". Ведь о чем, собственно, идет речь? О науке?
Что это: слово? Имя? Понятие? Или, может быть, комплекс в социальном подсознании?
Конечно, я не знаю, что такое "наука", но я знаю о своем страхе
перед "наукой", - и в этом мое понимание науки - возможно, единственно
доступное в нашу эпоху трезвое понимание… Сочленение тысячелетий задает
поистине странную, до сих пор неведомую, ситуацию: страх отрезвляет от
опьяняющих научных побед. Страх отрезвляет…
Я боюсь науку, и это значит, что я не знаю, что такое наука. Мы не боимся
того, что знаем. Знание нейтрализует страх, и оттого вдвойне сложно остаться
способным убояться знания. Как-то даже стыдно вновь оказаться в ситуации
первочеловека - этого блаженного идиота, что бродит средь райских кущей
и чистосердечно боится познать что-нибудь не то… Но только ли я не знаю,
что такое наука? И вообще, знаем ли мы хоть единое "что" во
всем блеске и неповторимости его "есть"? Но есть все основания
утверждать, что в своей сущности оставаясь неведомой, наука господствует,
задает тотальность человеческокому миру, что с наибольшей очевидностью
демонстрирует современная глобализация международного общества на почве
информационно-потребительского спроса и военно-технической конкуренции.
Прошу не счесть за паранойю, но науку боятся все: в той мере, в какой
о ней осведомлены. Возможно, точнее было бы сказать: не науку, а ее отсутствие.
Первобытный страх оттого, что боги удалились, покинув нас на произвол
судьбы, испытывает современный - тем больше "культурный и образованный"
- человек в тех сферах жизни, где наука бессильна. Учёные-естественники
- эти солдаты интеллектуального фронта, яростно и методично выбивающие
у "фюсис" все явки и пароли,-- оказываются слабыми детьми перед
обезоруживающей случайностью обыденного бытия. Человеческий мир - это
слишком макроскопический "уровень организации материи", чтобы
придать ему эвклидовый или неэвклидовый характер: наука в растерянности,
человек в страхе. Власть науки очевидна - но очевидно и её какое-то парадоксальное
бессилие…
Так я вижу глубинную установку современного человека, вызванную стереотипом
науки. Очень хочется, чтобы всё это было лишь моей собственной психологической
проекцией. Но даже и в этом случае я не перестану быть одним из Многих,
и, соответственно, мои "персональные измышления" не утратят
свой культурно-исторический статус. Ведь объективность не значит бессубъектность?
Итак, теперь уместно задаться вопросом: как же могло случиться перерождение
образа науки в стереотип? Ведь, казалось бы, наука только тем и занимается,
что предотвращает всяческую возможную стереотипизацию типологий. Значит
ли это, что наука так и не обрела тотальности? Или же напротив, сама научная
тотальность имеет стереотипный характер? Тогда следует попытаться понять,
что такое стереотипизация как путь к обретению наукой тотального характера.
Мой страх как человека не только из собственной экзистенции, но и из современной
культуры проживающего своё отношение к науке, говорит не столько о действительной
тотализации науки, сколько о её стереотипизации в культуре вообще, и в
культурных формах сознания в частности. Причём стереотипизацию в данном
случае можно понимать как нарастание значения (точнее значимости) некоего
феномена при убывании его смысла. Такая динамика культурного сознания
может породить (и порождает) лишь симуляцию тотализации. Другое дело,
что эта симуляция оформляется идеологически, а наукообразные симулякры
объявляются полноценными мыслительными формами.
Все публикации философского клуба