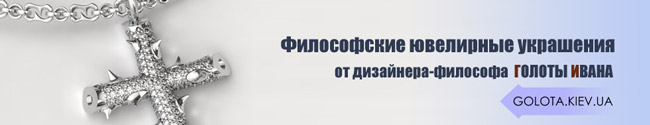Что может быть понятнее, чем желание человека упорядочить свой жизненный
мир? И что может быть естественнее, чем стремление во что бы то не стало
сохранить ощущение свободы? Именем того и другого история наполнялась
век от века как созидательными, так и разрушительными деяниями. Но, кажется,
мало понимания было во всем этом...
Отношение к истории - ключевой момент в самосознании культуры. Человеческое мышление никогда не уйдет от вопроса: как нам, живущим в настоящем, соотнести наше прошлое с нашим будущим? Как осуществить полноценное отношение к истории? Должно ли это быть безусловное принятие истории, трепетное почитание и преклонение перед своим историческим прошлым? Или история в своей большей части должна быть решительно отвергнута как неудавшаяся, бессмысленная? Следует ли в истории видеть более или менее успешную деятельность человеческих общностей и "великих личностей"? Или же можно за ходом исторических событий усмотреть провиденциальный план некоей трансцендентной сущности?
Конечно, сами эти термины имеют конкретно-исторический характер, но в то же время они удобны для анализа, ибо в них произведена последовательная абсолютизация гносеологических принципов. В термин "абсолютизация" не следует привносить негативный смысл, как то: "искажение", "утрата меры", "нарушение", "недопустимое преувеличение" и т.п. В современных гуманитарных дискуссиях упрек в абсолютизации как контраргумент весьма популярен. Но смысл этого упрека представляется нам не совсем проясненным. И потому в нашем случае мы предлагаем понимать абсолютизацию как "определение Абсолюта", т.е. выстраивание онтологии, своего рода манифестация символа веры. В таком контексте упрек в абсолютизации представляется просто наивным проявлением недостатка рефлексии относительно собственных мыслительных предпосылок.
Для того, чтобы ответить на вопрос, как осуществить полноценное отношения к истории, обратимся к работам Карла Манхейма. Попробуем разобраться, действительно ли утопия "отвергает" историю, а идеология её "принимает", и в чём состоит та общая основа, которая так крепко связывает эти противоположности. Тем самым мы обнаружим общие мыслительные предпосылки, говоря модным современным языком - общую герменевтическую ситуацию, которая позволила бы прийти к конвенциональному согласию указанных позиций. Ибо хотя противопоставление "отвержение истории - принятие истории" имеет, возможно, преходящий характер, общая герменевтическая ситуация этих позиций обладает универсально-культурным значением.
"Отвержение истории": рационалистический активизм утопии.
Утопия - понятие объёмное и изменявшее свои смысловые акценты на протяжении истории. Но и до сегодняшнего дня "утопическое сознание" понимается как особый способ соотношения прошлого с будущим, а именно: как обесценивание прошлого и насильственный активизм по отношению к будущему. Такую двуаспектную характеристику можно выразить в формулировке "аннигиляция настоящего". Однако правомерность такого образа утопизма следует поддать сомнению и прояснить, в чем же состоит действительный импульс утопического мышления.
В каком смысле утопия "отвергает историю"? Ведь утопизм не отказывается учитывать исторический опыт. Напротив, с точки зрения утопизма никто кроме него самого извлекать опыт из истории так до сих пор и не научился. Чтобы оказаться в состоянии извлекать опыт, то есть учиться на своих и чужих ошибках, нужно действительно в определенном смысле "отвергнуть историю", осуществить переоценку исторических ценностей, радикальную ревизию господствующей интерпретации истории. Активизм утопического сознания не позволяет ему "считаться" с историей как некоей самодостаточной реальностью, которая удерживает нас в органической (роковой!) связи с собой. Ибо такое представление об органическом и неизбежном историческом единстве есть, с точки зрения утопизма, сакрализация, обожествление истории, что ее как раз и делает недоступной для понимания.
Активистское представление о понимании в большой мере совпадает с научно-технологическим: понимание - это анализ, приводящий к выявлению ошибок и обнаружению способов их не допускать в будущем. История не может считаться чем-то осмысленным, и, соответственно, поддающимся пониманию, если ее автором является кто-то другой, а не само человечество: Бог, Абсолютная идея, Историческая судьба и т.п. Бессмысленной история остается и тогда, когда кто-то "пишет" ее нашими руками или, иначе говоря, когда мы "пишем" ее бессознательно. Придать смысл истории можно, лишь возложив всю ответственность за исторические ошибки исключительно на само человечество, а не на примитивные производительные силы или незрелое моральное сознание. Только такой, сугубо рациональный подход дает шанс освободиться от грехов истории с тем, чтобы их искупить - шанс преодолеть "гипноз истории". Это "освобождение от истории" есть в то же время и ее подлинное, свободное присвоение.
Однако встает вопрос, что же считать "достижениями" в истории, а что "ошибками"? Где найти те цели, которые - непонятно, кем и когда - были поставлены перед человечеством? И вообще, можно ли целерациональную структуру деятельности считать единственной осмысленной ситуацией? Попыткой ответа на эти вопросы является другой - условно называемый "историософским" - подход, полагающий в основание понимания истории феномен традиции.
"Принятие истории": иррационалистический традиционализм идеологии.
Понятие идеологии имеет не менее сложную историю, чем утопия. Весь двадцатый век усиленно формировался взгляд на идеологию как на "ложное сознание", закрывающее глаза на будущее, дабы не лишиться иллюзий прошлого. В нашем случае мы не рассматриваем идеологию в оппозиции "ложное - истинное", но соотносим её с моментом традиции, преемственности, мифа, которко - "традиционным поведением", в отличии от поведения целерационального. Представителями так понятого "идеологического мышления" можно назвать Бердяева, Хайдеггера, Ортегу-и-Гассета, Гадамера… Иррационалистический традиционализм идеологии формировался еще в условиях немецкого Романтизма и, соответственно, исходил из противостояния Просвещению. Вот как о смысле Просвещения в категоряях романтизма говорит в работе "Смысл истории" Н. Бердяев:
"Эпоха просвещения есть такая эпоха в жизни каждого народа, когда ограниченный и самонадеянный исторический разум ставит себя выше тайн бытия, тайн жизни, тех божественных тайн, из которых как из своих истоков исходит вся человеческая культура и жизнь всех народов земли. И вот в эпоху "просвещения" начинается постановка человеческого разума вне этих непосредственных тайн жизни и над ними. Для этих эпох характерна попытка сделать малый человеческий разум судьей над тайнами мироздания и тайнами человеческой истории. При этом, конечно, человек выпадает из непосредственного пребывания в историческом. Эпоха "просвещения" отрицает тайну исторического. Она отрицает "историческое" как специфическую реальность. Она его разлагает, производит над ним такие операции, что оно перестает быть той первоначальной целостностью, которая и делает его "историческим". Она разобщает человеческий дух и человеческий разум с "историческим" [2, 7]
Очевидно, что ответ на вопрос о том, как возможно понимание, в традиционализме иной, нежели в утопическом сознании. Последнее полагает, что смысловым залогом понимания является четкое разграничение субъекта и объекта. Такое разграничение должно обеспечить возможность не путать те цели, которые ставились, и те результаты, которые реально достигались. Для традиционализма же понимание возможно лишь на основании традиции как некоего "органического" процесса. Последний самостоятелен и произволен в своей "органичности" не по слабосилию или недосмотру человека, который в принципе мог бы взять этот процесс под контроль, оказавшись единовластным субъектом истории как своей деятельности. Нет, с точки зрения традиционализма, "схватывание" истории как "неудавшейся деятельности" человека, который, за редким исключением, оказывается не в состоянии удерживать свою субъектность, - такой подход разрушает саму структуру понимания. Единство (переходящее в тождество) субъекта и объекта истории и исторического познания - это основной тезис философско-исторической концепции Бердяева и традиционализма в целом. Тождество истории как события и истории как рассказа об этом событии - это указание на то, что сам рассказ (сказание, предание, слово) есть событие прежде всего. Такое "принятие истории" традиционализмом есть, по сути, её сакрализация. История неприкосновенна и истинна в той мере, в какой священно предание о ней. История - это то, что в виде традиции органично и самостоятельно проходит через века: осуществляется, воплощается, демонстрирует свою жизненность в виде оберегающего слова. История есть традиция, а традиция бережёт самое святое - жизнь: в этом священность традиции.
Апелляция к "живой жизни", к историчности живой личности особенно понятна в контексте "экзистенциального персонализма" Бердяева. Главное для него - не подменять живую жизнь идеей жизни. Жизнь абсолютна в том отношении, что она непосредственна. Для того чтобы быть к ней причастным, не требуется какой-либо идеи жизни, какого-либо опосредующего звена, модели. Так же как для причастности к истории не требуется чего-либо вне самой истории. История, как и жизнь - это то, что уже случилось; то, по отношению к чему человек всегда "внутри". Невозможно "устранить" себя из мира, и даже в самопожертвовании человек утверждается в мире, а не просто отказывается от него. "Жизненность" истории и общества означает удержание бытия в таком мире, где возможно самоутверждение в самопожертвовании. Смерть как некая конечная возможность действительно дополняет совокупность возможностей любой ситуации. Особенность утопизма в том, что он хочет создать мир, где самопожертвование не просто возможность, а необходимость. Эта попытка "обойти" свободу, свободное решение личности есть, в конечном счёте, истолкование свободы как правильности, адекватности. Но личностный поступок - это нечто принципиально иное, нежели правильное действие, чему судьба Христа - первый пример. Торговля о цене жизни неуместна в любых ситуациях, и каждый из нас во всей непосредственности ощущает бесценность своей жизни даже вопреки её "ничтожности". Утопизм же есть оценивание жизни на её идейность, а личности - на её разумность. Такова логика традиционализма, как мы ее находим в работах Н.Бердяева.
Другой пример традиционализма можно обнаружить в философии Мартина Хайдеггера. Этот мыслитель не пытается определить некие цели, которые ставило (или должно было ставить) человечество на протяжении истории. Само истолкование деятельности через целесообразность и эффективность отвергается Хайдеггером. Во всём случившемся и продолжающем быть он ищет предсуществующий срытый смысл: тот, который непрерывно исходит от обращенного к человеку Бытия. В этом отношении показательным является анализ Хайдеггером проблемы техники. Описывая всё возрастающую "самодеятельность" техники, философ отмечает, что происходит "глубочайшее изменение в отношении человека к природе и к миру перед ним. Но смысл того, что правит этим изменением, по-прежнему тёмен". И дальше: "Итак, во всех технических процессах господствует смысл, который располагает всеми человеческими поступками и поведением, и не человек выдумал или создал этот смысл… Смысл мира техники скрыт от нас… Я называю поведение, благодаря которому мы открываемся для смысла, потаённого в мире техники, открытостью для тайны". [3, 110].
Весьма "мистическое" истолкование Хайдеггером смысла традиции и истории отсылает к той же реальности "живой жизни", на которую указывает Бердяев. Конечно, Хайдеггера персоналистом назвать трудно, но "субъективность" персонализма, "бытие-вот" Хайдеггера, "жизнь" Хосе Ортеги-и-Гассета вполне можно соотнести. В подтверждение этому можно привести мнение последнего из названных философов, который в своё время писал: "самый глубокий анализ жизни принадлежит новому немецкому философу Мартину Хайдеггеру" [4, 171]. В другом месте находим такую характеристику феномена жизни: "то первичное, что имеется в Универсуме, это "моя жизнь", и всё остальное, что имеется или не имеется в ней, внутри неё" [4, 166]. Таким образом, нетрудно заметить, что в традиционализме рациональной деятельности противопоставляется иррациональное начало целостной и непосредственной жизни.
Такова логика мышления в рамках утопии и идеологии. При этом видно, что подобная логика не может оставаться сугубо внутренней и неизбежно направлена на опровержение противоположного подхода. С точки зрения утопии, идеология непозволительно консервативна. В глазах же носителя идеологического сознания, непозволительным является как раз безграничный радикализм утопии. Невольно возникает желание стать на нейтральную, объективную, так сказать "внепартийную" точку зрения и разобраться, в чём тут дело. На реализацию такой метапозиции издревле претендует философия и наука.
Манхеймовский проект метапозиции в своей основе имеет позитивистский смысл. Прежде всего, это видно из квалификации "трансцендентности" как неадекватности, несоответствия. При этом следует учесть, что фактически под "трансцендентностью" имеется в виду неспособность или отказ субъекта от ориентации на усмотрение осмысленности в голой фактичности социального бытия. И для идеологии, и для утопии отправной точкой оказывается идеал, в частности идеал общественной жизни. Он и выстпуает универсальной предпосылкой понимания истории, её смысла.
Общественный идеал - предпосылка понимания истории.
Исходя из утвердившегося в последнем столетии позитивистского образа науки, можно утверждать, что общественный идеал, вообще сфера идеалов - это весьма специфическая, нетипичная для науки исследовательская реальность. Её особенность в том, что она как бы превосходит компетенцию научного подхода, "требует" от науки того, чего та дать не в состоянии. Сфера идеалов содержит цели и предписания, в то время как наука вроде бы ограничивается средствами и описаниями. Идеалы задают долженствования, тогда как наука продуцирует предсказания. Такие различия указывают на то, что идеал не есть предмет науки: невозможно научным способом определить смысл жизни или предназначение человечества. Иначе говоря, наука не отвечает на вопрос "как жить и что делать?". Но при этом в её компетенцию входят вопросы "как жить, если мы хотим добиться того или другого?" и "что именно делать, если у нас такая-то цель?".
В то же время, идеалы все же могут стать предметом научного исследования. Это возможно при условии отказа от попыток научного предписания идеала. В таком случае прийдется ограничиться задачами описать и классифицировать идеалы, увязать их с какими-то иными проявлениями человеческой деятельности, исследовать закономерности образования идеалов, изучить зависимость образования идеалов от других познавательных и социокультурных процессов, типизировать структурные зависимости самого содержания идеалов, предсказать вероятность реализуемости идеалов при тех или иных социально-политичевских условиях, спрогнозировать непредусмотренные в идеале последствия его реализации и т.д. Повторимся, так проведённый научный подход руководствуется позитивистским образом науки, который ещё можно назвать научно-технологическим. Наука здесь видится совокупностью технологий, нейтральных по отношению к целям. "Всё, что технология может сказать про цели - это то, не противоречат ли они друг другу и достижимы ли они" [6, 86].
Но предшествующий позитивизму классический новоевропейский рационализм занимает много более радикальную позицию, которая наиболее ярко выражена в феномене Просвещения. Новоевропейский рационализм утверждает рациональную природу не только средств, но и целей. Человек - "разумное существо в разумном мире" - должен сообразовывать свою жизнь с неизменными принципами всеобщей разумности. В этом его добро и благо, счастье и свобода. Просвещение в полной мере принимает такой рационалистический подход и переносит его в социальную сферу.
Позитивизм же развивает тенденции рационализма в другом направлении. Если в рационализме Просвещения человеческая деятельность оказывается необходимым компонентом, неким внутренним двигателем рациональности, то позитивизм представляет мировую рациональность "самодвижущейся", то есть не требующей человеческой самодеятельности. Собственно, идея социального прогресса именно в позитивизме и утвердилась - прогресса, который определяет человеческую деятельность, а не определяется ею.
Таким образом, новоевропейский рационализм породил две во
многом противоположные рационально-культурные формы. Причём в результате
возобладала позитивистская тенденция, и современную культуру во многом
можно назвать позитивистской культурой. Принципиально не изменило культурную
ситуацию и постпозитивистская реакция, трансформировавшаяся в "ситуацию
постмодерна". Если для позитивизма цели выступают опредмеченными
в человеческой деятельности объективными законами, и потому человек не
может считаться полноценным субъектом целеполагания, то в обществе постмодерна
цели являются в лучшем случае предметом игры. Что же до парадигмы Просвещения,
то она оказалась в маргинальном положении.
Именно с такой культурной ситуацией связана критика и утопии, и идеологии.
Весь современный анализ этих культурных феноменов построен, прежде всего,
на обосновании их научной несостоятельности. Соответственно, предполагается,
что одна только наука (в функции технологии) обладает достаточными критериями
состоятельности. И именно эта её технологическая нейтральность обеспечивает
науке "особый эпистемологический статус". Как писал Поппер,
"одна из важнейших задач любой технологии -- указать, чего нельзя
достичь"[6, 83].
В результате, современное научное сознание вытеснило из
сферы собственной компетенции сферу целей и идеалов, тогда как идеология
и утопия остались полюсами сознания, ориентирующегося на ту или иную форму
освоения этой сферы. Действительное "отвержение истории" осуществила
современная наука, отказываясь понимать "неправильные и бесполезные"
вопросы о смысле истории и общественном идеале. Что же до идеологии и
утопии, то они предлагают разные формы освоения истории: мифологическое
в идеологии и рационалистическое в утопии. Двуполюсность "идеалистического
сознания" необходима в том отношении, что она отражает реальную диалектику
традиции и новации, эволюции и революции. Активно-преобразующий характер
утопии действительно может быть утрирован до перманентного разрушения
всякого ставшего. Охраняющее начало идеологии может быть доведено до умерщвляющего
консервирования всякой действительности. Но та и другая крайность уравновешивают
и нейтрализуют друг друга, находя согласие в ориентации на идеал как условие
выживания, осуществления всякой жизненности. Ведь в основании идеологии
и утопии лежит сопряженное единство идеала и жизненности. В конечном счёте,
жизнь как универсальный идеал - это то, что напрочь вытеснено из современной
науки, и что в абсолютизированных формах утвердилось в идеологии и утопии.
Поэтому науке недоступно понимание исторической целостности, но только
участие в ней. Идеологии и утопии история как целостность оказывается
доступной для понимания за счёт того, что в этих формах сознания ставится
задача формирования общественного идеала, обеспечивающего историческую
жизнь.
Библиография
1. "Теория познания", т.4. М.,1995
2. Бердяев Н. "Смысл истории". М.,1990
3. Хайдеггер М. "Разговор на просёлочной дороге". М., 1990
4. Ортега-и-Гассет, Хосе. "Что такое философия?". М., 1989
5. Гадамер, Г.-Г. "Актуальность прекрасного". М.,1991
6. Поппер, Карл. "Злиденність історицизму". Киев, 1994
7. Манхейм, Карл. "Диагноз нашего времени". М.,1994
Все публикации философского клуба